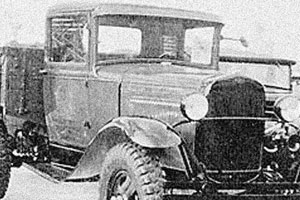Доктор геолого-минералогических наук, профессор, многолетний сотрудник СНИИГГиМСа Николай Николаевич Амшинский – ученый с мировым именем, патриарх сибирской геологии, участник Великой Отечественной войны. Среди многих его званий – «Почетный разведчик недр СССР», а среди наград – медаль «За победу над Германией». Изобретатель, защитник природы, общественный деятель, поэт…
 |
| Николай Николаевич Амшинский |
Его интересы многогранны, а беззаветная преданность делу – отличительная черта характера.
Накануне Дня Победы я побывал в гостях у Николая Николаевича, поздравил его от себя лично и от имени редакции «Турбо» с праздником. Его рукопожатие, несмотря на «разменянный» десятый десяток (в декабре ветерану исполнится 93 года) было таким крепким, что у меня пальцы «склеились». В ходе беседы я, естественно, не удержался от «автомобильных» вопросов.
По дорогам Монголии
– Николай Николаевич, когда вы впервые сели за руль?
– Во время войны. Меня призвали в 1940 году, в конце финской кампании. Подержали нас месяца полтора до особого распоряжения и в конце зимы, 2 февраля, призвали в армию. Пригласили прийти на станцию с манаточками, посадили в поезд и привезли на границу с Монголией, в один из укрепрайонов. Я оказался в автомобильных войсках, в учебном батальоне, который выпускал младших шоферов. В том же году я окончил курсы водителей в батальоне и получил права 3 класса; потом был помкомвзвода.
– Чем вам конкретно приходилось заниматься?
– В 1940-1941 годах я возил по Монголии Ногинский топографический отряд, который вел тогда демаркационную линию между Маньчжурией и Монголией.
– Как вы узнали о начале Великой Отечественной?
– В Монголии на границе с СССР в то время строилась железная дорога. Она уже была проведена, но поезда еще не ходили. С нашей стороны последней была станция Соловьевск, а дальше дорога доходила до монгольского городка Баян-Тумень. Кругом – безводная степь. Но около станции Хаберга стояла водонапорная башня, которая качала воду из скважины. Надеялись, что когда пойдут поезда, то они будут там заправляться.
Вот и я приехал на автомобиле – заправиться водичкой. Подъезжаю к станции. Ребята – военная обслуга – выскочили, бегут навстречу, кричат. Ну, я вышел из машины, спрашиваю: что, мол, случилось? «Война!». Так 22 июня 1941 года на станции Хаберга я узнал о том, что началась война с Германией.
Автомобили по ленд-лизу
– И вас отправили на один из западных фронтов?
– Я побывал не на одном, а на многих фронтах. Сидел за «баранкой», участвовал во фронтовых перевозках, был ранен… Но на фронт я попал не сразу.
Через полтора месяца тех из нас, кто имел высшее и среднее законченное образование (а я окончил в 1938 году геологический факультет Томского университета), забрали из частей и отправили в Иркутск, в 4-й автомобильный учебный полк. Там я окончил курсы младших лейтенантов и получил уже права 1 класса с правом преподавания автодела.
 |
| ГАЗ-АА |
В полку было три батальона; два батальона готовили сержантский шоферский состав, а один – младших лейтенантов и младших воентехников. Меня поставили начальником штаба этого батальона. И до весны 1942 года я занимался подготовкой военных техников.
А потом нас по тревоге подняли, и полк поехал воевать, недоученный… А меня и еще 15 человек из полка отправили формировать новую часть. Так был сформирован 25-й автомобильный полк Ставки Верховного Главнокомандования, а я оказался в должности старшего диспетчера, помощника начальника штаба полка. И уже после этого нас отправили в Москву.
– Сколько в полку было автомобилей?
– Автомобильный полк – это более 2000 машин. Представляешь, сколько нужно было эшелонов, чтобы их перевезти?! Ехали мы вместе со своими машинами – ГАЗ АА и ЗИС 5. По дороге я дал телеграмму и в Новосибирске увиделся с матерью и младшим братом Юрием – он уже отвоевался, на костылях стоял; встретили они меня на перроне… Через час наш 25-й полк отправился дальше на запад.
В мае 1942 года добрались до Москвы, где все машины сдали по назначению. От Москвы, уже поездом, доехали до Владикавказа (тогда он назывался Джауджикау, позднее – Орджоникидзе). Во Владикавказе мы – личный состав полка – пересели на 50 машин и в качестве «пассажиров» доехали до Джульфы, конечной точки Военно-Грузинской дороги. Джульфа тогда была маленькой станцией на границе с Ираном. Мимо нее протекала речка, тоже Джульфа. А в долине была огорожена колючей проволокой большая территория, на которой стояли рядами машины, получаемые для СССР по ленд-лизу из США. Они перегонялись одним из наших автомобильных полков через границу, из портов Ирана в Персидском заливе, до Джульфы.
– Каких марок были автомобили?
– В основном Ford, Studebaker, Chevrolet, GMC. Еще Dodge «три четверти» – коротенький грузовичок, небольшой: три четверти тонны брал на борт; таких машин было немного. Ну и, конечно, «виллисы». Все эти ленд-лизовские машины у нас работали на фронте.
– И как вы эти автомобили перегоняли на фронт?
– А так. Наш полк построился, строем вошел в эту «изгородь». Машин – 2400, все груженые продуктами и запчастями. Прозвучала команда: разбирай! Сели в машины, нажали «кнопочки» и поехали домой – на фронты.
И таким образом я 11 раз проезжал Военно-Грузинскую дорогу. Автомобили увозили то на один, то на другой, то на третий фронт… Приезжаем, сдаем, оставляем себе 50 машин и уже как «туристы» едем обратно в Джульфу; там опять забираем… Служил я в полку до весны 1944 года, пока не получил новое назначение.
Адъютант интереснейшего человека
– И куда вас направили?
– В Москву. Я был назначен адъютантом генерала Лапшина, начальника Управления эксплуатации и автоперевозок Главного автомобильного управления Красной Армии. На этой должности я пробыл до конца войны.
– Расскажите о своем начальнике. Что он был за человек?
– Начальник мой, Александр Иванович Лапшин, был интереснейший человек. Было в нем 2 метра 4 сантиметра росту и 140 килограммов весу. Когда мы с ним познакомились, он понял, что я уже инженер и смекаю кое-что в автомобильном деле. Спрашивает: «Знаешь, кто такой старший адъютант батальона или полка?». Знаю, говорю: начальник штаба батальона или полка. «Вот, мне такой ты и нужен!».
До меня в этой должности был подполковник. А я был всего-навсего в лейтенантском звании. Но Лапшин меня посылал инспектировать воинские подразделения, которыми командовали офицеры старше меня по званию. И Александр Иванович перед моей поездкой звонил по прямому проводу и приказывал, чтобы меня слушались, как его самого. В самом конце войны его направили на восток. Он возглавил автомобильное хозяйство армии, которая громила тогда Японию.
– Когда для вас окончилась Великая Отечественная война?
– В августе 1945 года. По просьбе Комитета по делам геологии я был демобилизован и вернулся на работу в Западно-Сибирское геологоуправление в Новосибирск. Лапшин мне тогда, еще в Москве, говорил: «Николай Николаевич, ты подумай! Может, послужишь еще немного?». Я подумал-подумал… Нет, говорю, Александр Иванович! Все же меня больше тянет на природу, в горы, искать руды! «Да, – сказал он, – я понимаю тебя. Езжай!». Замечательнейший был человек! Жаль, не довелось нам больше увидеться…
Из гаража Пилсудского
– А на немецких машинах не приходилось ездить?
– Приходилось. В конце войны, когда наши войска уже Польшу освобождали, один из автомобильных полков обнаружил на вилле Пилсудского чудом уцелевшую новенькую BMW, машинку легковую. Привезли ее Лапшину. А она такая маленькая! А Лапшин – два метра ростом! Он посмотрел на нее: «Вы что, – говорит, – смеетесь? Я даже не буду пытаться в нее залезть!».
 |
| Алтай, 1974 г. Мирная жизнь… |
– И что с этим автомобилем потом стало?
– Александр Иванович передал BMW мне, я поставил машину на учет, подремонтировал. Но надо же ее где-то хранить, а у меня ни черта нет! Выручил знакомый начальник одного из авторемонтных заводов, тоже замечательный мужик. Поставил я «бээмвэшку» к нему на завод. Он сказал: «Пока я жив – никто твою машину не тронет!». И вот с таким напутствием я уехал в Новосибирск. Машина осталась в Москве.
Я занимался поисками урановых руд в Западной Сибири, а урановые рудники в СССР были в ведении Берии; отношения, понятно, колючие. Поэтому вырваться в Москву смог только через два года…
Так вот. Пришел я на улицу Максима Горького, зашел в бюро пропусков нашего Управления. «А такого, – говорят мне, – уже нет, теперь здесь Автобронетанковое управление». Понятно. А где мне найти генерала Лапшина? «И такого, – отвечают, – здесь уже нет, он теперь служит на Дальнем Востоке». Все же отправился я искать тот завод, где оставил BMW. Приезжаю, а там вместо завода – гараж какой-то автомобильный. И канула в Лету моя машина…
День Победы
– А 9 мая 1945 года вы были в Москве или в разъездах?
– Не помню уже, куда я ездил, но возвращался в Москву с небольшой автоколонной, которую должен был провести через Москву на Северную дорогу. Нам надо было попасть в поселок Софрино (известный тем, что там делали знаменитую кирзу для солдатских сапог). И вот туда я должен был привести эти самые машины.
Где-то под Подольском остановились мы ночевать. Со мной было машин шесть или семь. Утром просыпаемся от громких криков и выстрелов. Что такое творится? Непонятно. Выскочили из помещения (кажется, это была школа) – нас в охапки: «Ура, качать их! Война кончилась!».
– Значит, День Победы вы встретили под Подольском?
– Да, но было и продолжение. Мы, естественно, заводим свои машинёшки и дуем в Москву. В общем, довел я колонну до Софрино, оттуда по железной дороге – снова до Москвы; явился в Управление уже к вечеру. И праздничный салют в Москве видел. И написал стихотворение «День Победы»…
| День Победы
Нет дней, которые по праву С тобою стали наравне. Венец великой ратной славы, Ты положил конец войне. И светел был на всей планете Ты, разъединственный такой. И старцы плакали, как дети, Стыдливо заслонясь рукой. Блистал, погодам неподвластный, На землях всех материков, Покончив с горем и ненастьем, Великий день в ряду веков. Сама природа ликовала. Цвел малахитом ближний лес. Москва, как море, бушевала, Неслись ракеты в свод небес. Здесь все смешалось — счастье, горе, И радость встреч, и боль утрат. И властелином в этом море Был ты, моей страны солдат. Те, кто в повязках и заплатах Был не однажды на войне, Со мной согласны, что солдаты За павших жить должны вдвойне. 10 мая 1945 г. |